еда в итальянском постнеореализме
автор: Егор Беликов
Разговор о еде в фильмах итальянских постнеореалистов кажется стереотипизацией итальянской же культуры. О чем еще говорить в случае Италии, если не о еде? В открыточный образ этой страны входит как и важнейшая для Европы художественная традиция, так и гастрономическая. Римские статуи, венецианские каналы и, разумеется, спагетти — стартовый набор недостаточно осознанного туриста.
С другой стороны, еда в кино — это всегда символ: дома и уютного мироощущения человеческого жилища; достатка, хотя бы минимального; мещанского довольства, если не счастья; жизненного разнообразия (если блюд много — и желательно вкусных). И именно неореалисты, которые привлекли внимание аудитории после войны в то же время, как улицы охватили пожары гражданского недовольства и беспокойства, регулярно и обильно демонстрировали еду в кадре. Зачем?
«Похитители велосипедов», 1948
итальянские неореалисты зафиксировались в истории как люди, которые отразили действительность как весьма плачевную, но сделали это с неизменным итальянским изяществом, лиричностью, энигматичностью и эллегичностью.
исторический диджестив
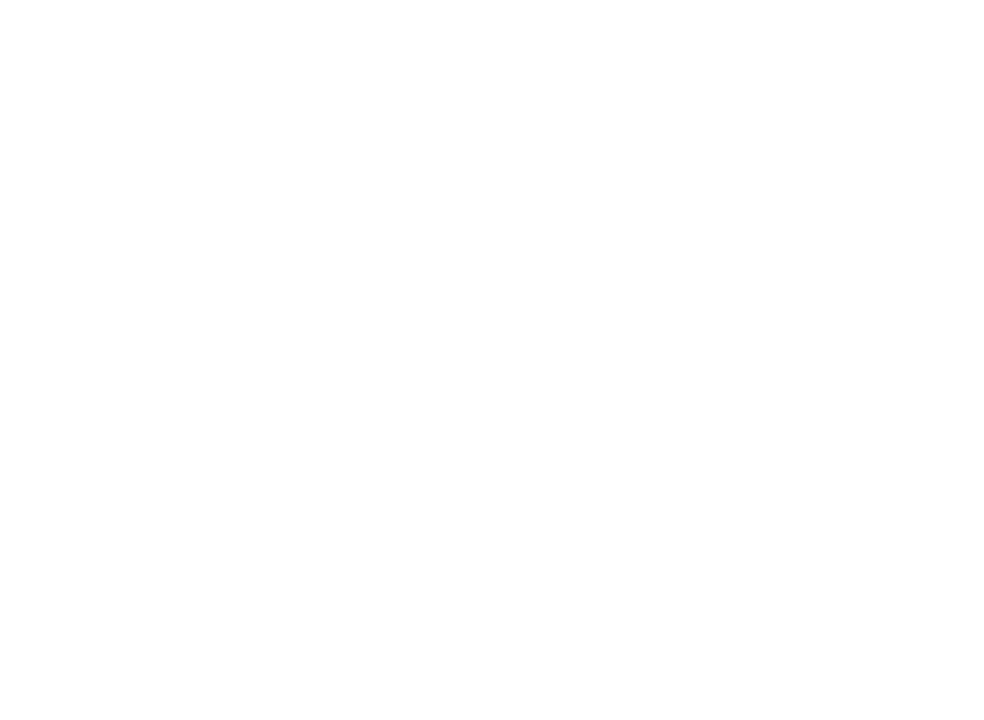
«Умберто Д.», 1952
Отсутствие в достаточном для населения количестве еды в государстве — одна из самых симптоматичных реалий для Италии после Второй мировой. Поэтому и в канон неореализма вошло изображение производства продуктов, готовки и употребления пищи. Таким образом первое поколение режиссеров, переживших величайшую катастрофу в истории человечества, которая сильнее прочих ударила именно по Италии, породившей фашистский режим, приближали свои фильмы к реальности, но не только. Еще изображения еды в тогдашнем кино провоцировали дискуссию, как культурную, так и политическую, о том, как должен выглядеть мир, в котором будет жить и Италия, и ее граждане — в том смысле, что у каждого жителя есть как индивидуальное или семейное жилище, так и страна как дом для всех сразу — и каким образом все это поменяется после двух десятилетий, проведенных под властью дуче.
Иначе говоря, неореалисты при помощи кадров с едой участвовали в общенациональном размышлении о будущем, а также размывали границу между личным и общественным. В итоге они принесли на кухню социальную повестку и, наоборот, вынесли на улицы вопросы выживания каждого индивида.
В этом смысле постнеореалисты забрали навынос кинопищу с кухни своих предшественников. Продолжая тенденцию снимать кино отчетливо политическое и (пере)осмысляющее реальность, следующее поколение авторов также регулярно эксплуатировало изображение еды как одной из главных и неотъемлемых радостей человеческого существования.
В этом смысле постнеореалисты забрали навынос кинопищу с кухни своих предшественников. Продолжая тенденцию снимать кино отчетливо политическое и (пере)осмысляющее реальность, следующее поколение авторов также регулярно эксплуатировало изображение еды как одной из главных и неотъемлемых радостей человеческого существования.
неореалисты при помощи кадров с едой участвовали в общенациональном размышлении о будущем, а также размывали границу между личным и общественным
кулинарный рай
Тем символичнее, что сразу многие итальянские режиссеры послевоенной эпохи родились в очень особенной провинции, происходят из региона под названием Эмилия-Романья, стимулирующим аппетит любого гастротуриста. Именно там на свет появился сыр пармиджано реджано, прошутто и ингредиент из множества рецептов национальной кухни — бальзамический уксус. Немудрено, что там появились на свет авторы, для которых еда в кадре — всегда больше, чем просто пропитание.
Феллини — из Римини, сценарист Тонино Гуэрра (в 2020 году мы празднуем столетний юбилей с дня его рождения) — из маленького городка Сантарканджело-ди-Романья, Микеланджело Антониони — из Феррары (административный центр важной для Эмилии-Романьи одноименной провинции), и так далее. Получается, что для них всех еда оказывается уже не просто банальной необходимостью, а одним из столпов культурного наследия, их взрастившего.
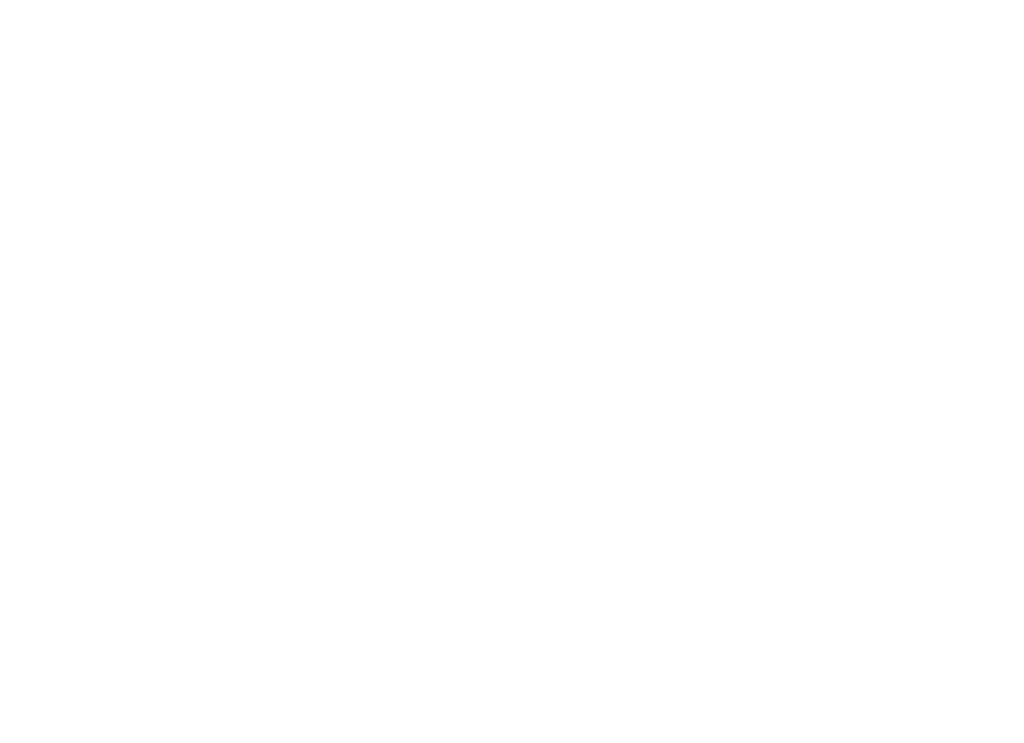
«Амаркорд», 1973
для них всех еда оказывается уже не просто банальной необходимостью, а одним из столпов культурного наследия, их взрастившего
федерико с сыром
Если вспоминать какого-нибудь одного режиссера, который прославил в веках итальянскую кухню, то это, безусловно, Феллини. Даже фамилия великого режиссера напоминает название вида макарон: капеллини, букатини, Феллини.
Все детство Федерико прошло, словно сервированное сырной посыпкой: его отец Урбано торговал пармезаном, и дом, где вырос самый известный постановщик Италии, был заставлен гигантскими желтыми кругами. Это парадоксально сказалось на режиссере: он никогда не был большим ценителем еды и в целом питался умеренно.
Все детство Федерико прошло, словно сервированное сырной посыпкой: его отец Урбано торговал пармезаном, и дом, где вырос самый известный постановщик Италии, был заставлен гигантскими желтыми кругами. Это парадоксально сказалось на режиссере: он никогда не был большим ценителем еды и в целом питался умеренно.
Известно, что Феллини уважал ризотто, тортеллини в бульоне, пасту с томатами или рагу болоньезе, рыбный суп и котлеты по фамильному рецепту своей мамы — говядина, изюм, пармезан и петрушка. Для русскоязычного читателя это, наверное, читается как подборка изысканных разносолов, но вообще для итальянца данное меню — в целом стандартное, почти «столовское».
Федерико Феллини: «Меня всегда сексуально возбуждало великолепное зрелище: женщина, которая ест с аппетитом. Женщина, которая любит поесть, не может не любить секс. Женщина, постоянно сидящая на диете, рационально относящаяся к питанию, должна быть умеренна и не расточительна во всем. Женщина, которая на самом деле получает удовольствие от еды, не может притворяться»
Со временем Феллини наращивал свои аппетиты, в смысле, вырос до грандиозного автора, сам потолстел (в юности он был, как ни удивительно, довольно субтилен) и полюбил корпулентных женщин. Мотив «с большими грудями и ягодицами» повторяется в его фильмах так часто («Амаркорд», «Город женщин» etc.), что это становится похоже на болезненную обсессию.
Любопытно, что выраженный таким образом режиссерский фетиш ловко рифмуется с пост-неореалистическим подтекстом: очевидно, что полная девушка в кадре символизирует, что еды в стране вполне хватает.
Любопытно, что выраженный таким образом режиссерский фетиш ловко рифмуется с пост-неореалистическим подтекстом: очевидно, что полная девушка в кадре символизирует, что еды в стране вполне хватает.
И Италия в фильмах режиссера — это желанная страна с аппетитами.
Да и гастрономические специалитеты, знакомые с детства, Феллини тоже полюбил с годами. Известна байка его постоянного соавтора, сценариста Тонино Гуэрры, о том, как режиссер шел по улице, купил булочку с мортаделлой (вареной колбасой), традиционным блюдом из романьольского города Болонья, и так увлекся делением выпечки на две части, что кусок мясного изделия приземлился ему аж на спину, за что тот получил нагоняй от жены, прославленной его фильмами актрисы Джульетты Мазины. Это, конечно, всего лишь одна история, но зато показательная.
Да и гастрономические специалитеты, знакомые с детства, Феллини тоже полюбил с годами. Известна байка его постоянного соавтора, сценариста Тонино Гуэрры, о том, как режиссер шел по улице, купил булочку с мортаделлой (вареной колбасой), традиционным блюдом из романьольского города Болонья, и так увлекся делением выпечки на две части, что кусок мясного изделия приземлился ему аж на спину, за что тот получил нагоняй от жены, прославленной его фильмами актрисы Джульетты Мазины. Это, конечно, всего лишь одна история, но зато показательная.

Федерико Феллини и Джульетта Мазина
Сегодня Феллини выставочные кураторы сравнивают даже с Пеллегрино Артузи
Это предприниматель, кулинар, вследствие этого — писатель и автор множества поваренных книг, которые на рубеже XIX и XX веков сформировали и подытожили итальянскую кухню в том виде, в котором мы знаем ее сейчас.
Это предприниматель, кулинар, вследствие этого — писатель и автор множества поваренных книг, которые на рубеже XIX и XX веков сформировали и подытожили итальянскую кухню в том виде, в котором мы знаем ее сейчас.
Сравнение это больше умозрительное (в 2020 празднуется и столетие со дня рождения Федерико, и двухстолетие со дня рождения Пеллегрино), но, с другой стороны, лестное и уместное. Во многом стереотип об итальянской гастрономичности сформировался под влиянием книг одного и фильмов другого, более того, картины Феллини (в первую очередь, наверное, «Сатирикон») явили миру живые иллюстрации к кулинарной литературной классике.
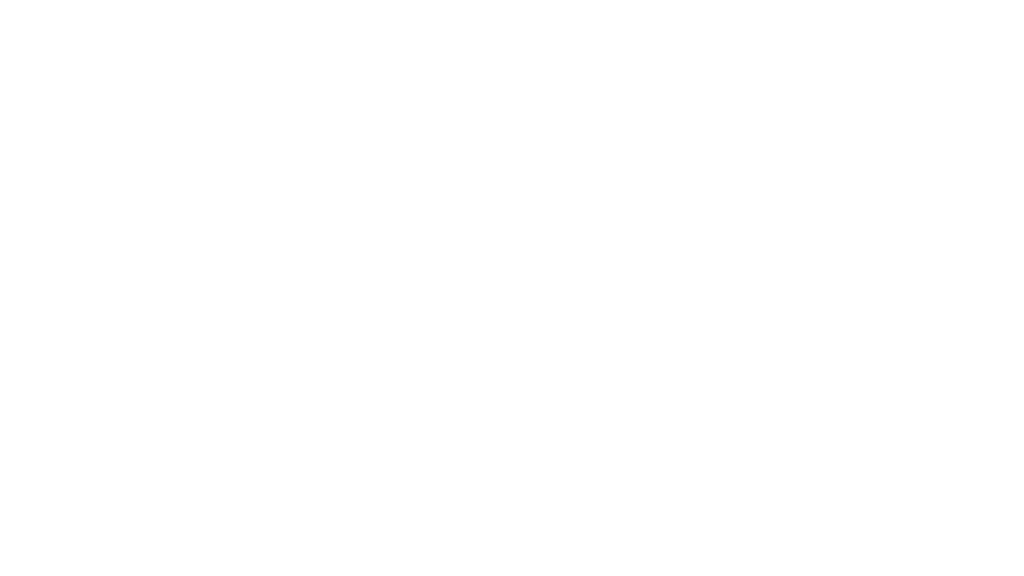
«Сатирикон», 1969
Три главных мотива в творчестве Феллини — детство, еда и сны — наиболее тесно переплетаются в рисунках. Его упражнения в изобразительном искусстве не претендовали на то, чтобы называться живописью, но и вторичными по влиянию на его жизнь в сравнении с кинематографом не были. Он начинал как автор комиксов, когда только переехал в Рим, и до конца жизни он, по словам современников, черкал на чем только придется: на салфетках, случайных бумажках. Это было почти рефлекторное творчество, где он фиксировал, например, свои сны и сны своих друзей, собственные фантазии и реальные события. В рисунках отражалась его жизнь, а фильмы фактически собирались из множества зарисовок, нанизанных на сюжетные нити — так Феллини всегда готовился к будущим съемкам.
И, разумеется, еда как всечеловеческий связующий элемент также там легко находится — сегодня из разнообразных «полотен» Федерико, посвященных еде, собираются целые выставки. Например, режиссер отразил важную для всего его творчества связку с психологическими исследования Карла Густава Юнга (фактически этот швейцарец вдохновил постановщика и на «Амаркорд», и на «8 с половиной») при помощи шутливой зарисовки их совместного ланча: Феллини, Юнг и еще кто-то сидят за столом и все дружно уплетают спагетти, причем каждая пара людей за столом соединены макаронинами, свисающими изо рта.
Рисунки Федерико Феллини
В рисунках отражалась его жизнь, а фильмы фактически собирались из множества зарисовок, нанизанных на сюжетные нити — так Феллини всегда готовился к будущим съемкам.
су-шеф гуэрра
Разумеется, в любви к еде как простейшей и величайшей из человеческих добродетелей преуспел и соавтор Феллини, сценарист, поэт, писатель Тонино Гуэрра. Кроме того, что он написал в соавторстве с ним картины «Амаркорд», «И корабль плывет», а также «Джинджер и Фред», он увековечил один из рисунков Феллини с изображением очередной крутобедрой женщины.
(как мы уже убедились, это в том числе и символ аппетита к жизни — во всех смыслах) в качестве эмблемы своего ресторана Ristorante-Osteria La Sangiovesa, открытого в 1990 году, еще при жизни вдохновителя, в родном городке Гуэрры, Сантарканджело. Все меню, разумеется, состоит из блюд романьольской кухни.
Ресторан «Ristorante-Osteria La Sangiovesa»
Более того, Гуэрра одним только интервью сумел привнести в Россию типично итальянскую традицию подвешенного кофе (это когда посетитель может оплатить не только ту чашку, которую сам заказал, но и подарить ее следующему человеку, у которого, возможно, не будет хватать денег, чтобы ее себе позволить). В 2005 году он давал интервью на радио «Эхо Москвы», и таким образом столица узнала о такой традиции, зародившейся в Неаполе.
Сегодня, к сожалению, «кофе соспесо» в России подвешивают крайне редко — забавно, что так же традиции выродилась со временем и на Родине. Но все же важно, что в этой традиции зафиксировалось извечное желание итальянцев не только насытиться или насладиться кофе самостоятельно, но и поделиться едой с любым знакомым и незнакомым. Радушность и гостеприимство — итальянские черты, которым не мешало бы стать интернациональными.
едоки не только картофеля
Другие режиссеры-постнеореалисты сервировали тему людского рациона не менее изысканно. Архетипичен в этом смысле грандиозный фильм Бернардо Бертолуччи, ушедшего из жизни последним из всех великих киноавторов того периода, под названием «Двадцатый век». В этой картине при помощи антитезы демонстрируется, как далеки от простого крестьянского народа помещики, незаслуженно наследующие свои состояния.
На стол аристократической семье Берлиньери подают лягушек. Отец одного из двух главных героев Альфредо (в основной части картины его играет Роберт де Ниро) заставляет сына съесть блюдо, которое он в отвращении выташнивает. Тем временем в семье Ольмо (Жерар Депардье) едят поленту, кашу из кукурузной муки (что-то вроде известной нам мамалыги) — это блюдо скромное, но зато сытное, без излишеств. Кстати, место действия — как раз та самая родная для режиссера провинция Эмилия-Романья.
«Двадцатый век», 1974
В истории итальянского кино находятся и обратные примеры того, как постановщики не боготворили пищу, а, наоборот, использовали ее как показатель категорического болезненного неравенства экономических классов.
Пьер Паоло Пазолини, скандалист, марксист и коммунист, в своем последнем провокационном шедевре «Сало, или 120 дней Содома» доказывает, что и еда может служить инструментом подавления.
Пьер Паоло Пазолини, скандалист, марксист и коммунист, в своем последнем провокационном шедевре «Сало, или 120 дней Содома» доказывает, что и еда может служить инструментом подавления.
Группа фашистов на излете войны запирается в поместье со своими пленниками и заставляет подопытных есть сначала объедки с барского стола, затем пирог, начиненный гвоздями, а потом их собственные экскременты.
Это можно трактовать как взгляд в недавнее прошлое: Пазолини демонстрирует умирающий человеконенавистнический режим Муссолини как кафкианский кошмар, где людей держали за скот, словно на убой откармливаемый отходами человеческой жизнедеятельности.
Это можно трактовать как взгляд в недавнее прошлое: Пазолини демонстрирует умирающий человеконенавистнический режим Муссолини как кафкианский кошмар, где людей держали за скот, словно на убой откармливаемый отходами человеческой жизнедеятельности.

«Сало, или 120 дней Содома», 1975
Разумеется, еда даже в наши вовсе не голодные времена была и остается важнейшим из предметов обсуждения и осмысления, как в жизни, так и в кино: пока президент РФ в теленовостях борется против подорожания первоочередных продуктов питания, во всем мире уже год чествуют корейских «Паразитов».
Режиссер Пон Чжун Хо на манер итальянских неореалистов и постнеореалистов делает экранную еду признаком состоятельности общества консьюмеризма.
Пародируя жанр застольного тоста, закончим так: выпьем же за то, чтобы и в будущем наши столы были бы похожи на те, что показаны у Феллини, а не у Пазолини. Bon appetit!
Пародируя жанр застольного тоста, закончим так: выпьем же за то, чтобы и в будущем наши столы были бы похожи на те, что показаны у Феллини, а не у Пазолини. Bon appetit!